Накануне читать краткое содержание. Дальнейшая судьба Елены. Стахов Николай Артемьевич

В один из самых жарких дней 1853 г. на берегу Москвы-реки в тени цветущей липы лежали двое молодых людей. Двадцатитрехлетний Андрей Петрович Берсенев только что вышел третьим кандидатом Московского университета, и впереди его ждала ученая карьера. Павел Яковлевич Шубин был скульптором, подававшим надежды. Спор, вполне мирный, касался природы и нашего места в ней. Берсенева поражает полнота и самодостаточность природы, на фоне которых яснее видится наша неполнота, что порождает тревогу, даже грусть. Шубин же предлагает не рефлектировать, а жить. Запасись подругой сердца, и тоска пройдет. Нами движет жажда любви,счастья - и больше ничего. "Да будто нет ничего выше счастья?" - возражает Берсенев.Не эгоистичное ли, не разъединяющее ли это слово. Соединить может искусство, родина, наука,свобода. И любовь, конечно, но не любовь-наслаждение, а любовь-жертва. Однако Шубин не согласен быть номером вторым. Он хочет любить для себя. Нет, настаивает его друг, поставить себя номером вторым - все назначение нашей жизни.
Молодые люди на этом прекратили пиршество ума и, помолчав, продолжили разговор уже об обыденном. Берсенев недавно видел Инсарова. Надо познакомить его с Шубиным и семейством Стаховых. Инсаров? Это тот серб или болгарин, о котором Андрей Петрович уже рассказывал? Патриот? Уж не он ли внушил ему только что высказанные мысли? Впрочем, пора возвращаться на дачу: опаздывать к обеду не следует. Анна Васильевна Стахова, троюродная тетушка Шубина,будет недовольна, а ведь Павел Васильевич обязан ей самой возможностью заниматься ваянием. Она даже дала деньги на поездку в Италию, да Павел (Поль, как она звала его) потратил их на Малороссию. Вообще семейство презанимательное. И как у подобных родителей могла появиться такая незаурядная дочь, как Елена? Попробуй-ка разгадать эту загадку природы.
Глава семейства, Николай Артемьевич Стахов, сын отставного капитана, смолоду мечтал о выгодной женитьбе. В двадцать пять он осуществил мечту - женился на Анне Васильевне Шубиной, но скоро заскучал, сошелся с вдовой Августиной Христиановной и скучал уже в её обществе. "Глазеют друг на друга, так глупо..." - рассказывает Шубин. Впрочем, иногда Николай Артемьевич затевает с ней споры: можно ли человеку объездить весь земной шар, или знать, что происходит на дне морском,или предвидеть погоду? И всегда заключал, что нельзя.
Анна Васильевна терпит неверность мужа, и все же больно ей, что он обманом подарил немке пару серых лошадей с её, Анны Васильевны, завода.
Шубин живет в этом семействе уже лет пять, с момента смерти матери, умной, доброй француженки(отец скончался несколькими годами раньше). Он целиком посвятил себя своему призванию,но трудится хотя и усердно, однако урывками, слышать не хочет об академии и профессорах.В Москве его знают как подающего надежды, но он в свои двадцать шесть лет остается в том же качестве. Ему очень нравится дочь Стаховых Елена Николаевна, но он не упускает случая приволокнуться и за пухленькой семнадцатилетней Зоей, взятой в дом компаньонкой для Елены,которой с ней не о чем говорить. Павел заглазно называет её сладковатой немочкой. УВЫ, Елена никак не понимает "всей естественности подобных противоречий" артиста. Отсутствие характера в человеке всегда возмущало её, глупость сердила, ложь она не прощала. Стоило кому-то потерять её уважение, и тот переставал существовать для нее.
Елена Николаевна натура незаурядная. Ей только что исполнилось двадцать лет, она привлекательна: высокого роста, с большими серыми глазами и темно-русой косой. Во всем её облике есть, однако, что-то порывистое, нервическое, что нравится не каждому.
Ничто никогда не могло удовлетворить её: она жаждала деятельного добра. С детства тревожили и занимали её нищие, голодные, больные люди и животные. Когда ей было лет десять, нищая девочка Катя стала предметом её забот и даже поклонения. Родители очень не одобряли это её увлечение. Правда, девочка скоро умерла. Однако след от этой встречи в душе Елены остался навсегда.
С шестнадцати лет она жила уже собственной жизнью, но жизнью одинокой. Её никто не стеснял,а она рвалась и томилась: "Как жить без любви, а любить некого!" Шубин быстро был отставлен по причине своего артистического непостоянства. Берсенев же занимает её как человек умный,образованный, по-своему настоящий, глубокий. Вот только зачем он так настойчив со своими рассказами об Инсарове? Эти рассказы и пробудили живейший интерес Елены к личности болгарина,одержимого идеей освобождения своей родины. Любое упоминание об этом будто зажигает в нем глухой, неугасимый огонь. Чувствуется сосредоточенная обдуманность единой и давней страсти.А история его такова.
Он был ещё ребенком, когда его мать похитил и убил турецкий ага. Отец пытался отомстить, но был расстрелян. Восьми лет, оставшись сиротой, Дмитрий прибыл в Россию, к тетке, а через двенадцать вернулся в Болгарию и за два года исходил её вдоль и поперек. Его преследовали, он подвергался опасности. Берсенев сам видел рубец - след раны. Нет, Инсаров не мстил aге. Его цель обширнее.
Он по-студенчески беден, но горд, щепетилен и нетребователен, поразительно работоспособен.В первый же день по переезде на дачу к Берсеневу он встал в четыре утра, обегал окрестности Кунцева, искупался и, выпив стакан холодного молока, принялся за работу. Он изучает русскую историю, право, политэкономию, переводит болгарские песни и летописи, составляет русскую грамматику для болгар и болгарскую для русских: русскому стыдно не знать славянские языки.
В первый свой визит Дмитрий Никанорович произвел на Елену меньшее впечатление, чем она ожидала после рассказов Берсенева. Но случай подтвердил верность оценок Берсенева.
Анна Васильевна решила как-то показать дочери и Зое красоты Царицына. Отправились туда большой компанией. Пруды и развалины дворца, парк - все произвело прекрасное впечатление. Зоя недурно пела, когда они плыли на лодке среди пышной зелени живописных берегов. Компания подгулявших немцев прокричала даже бис! На них не обратили внимания, но уже на берегу, после пикника, вновь встретились с ними. От компании отделился мужчина, огромного роста, с бычьей шеей, и стал требовать сатисфакции в виде поцелуя за то, что Зоя не ответила на их бисирование и аплодисменты. Шубин витиевато и с претензией на иронию начал увещевать пьяного нахала, что только раззадорило его. Тут вперед выступил Инсаров и просто потребовал, чтобы тот шел прочь. Быкоподобная туша угрожающе подалась вперед, но в тот же миг покачнулась, оторвалась от земли,поднятая на воздух Инсаровым, и, бухнувшись в пруд, исчезла под водой. "Он утонет!" - закричала Анна Васильевна. - "Выплывет", - небрежно бросил Инсаров. Что-то недоброе, опасное выступило на его лице.
В дневнике Елены появилась запись: "...Да, с ним шутить нельзя, и заступиться он умеет. Но к чему эта злоба?.. Или [...] нельзя быть мужчиной, бойцом, и остаться кротким и мягким? Жизнь дело грубое, сказал он недавно". Тут же она призналась себе, что полюбила его.
Тем большим ударом оказывается для Елены новость: Инсаров съезжает с дачи. Пока лишь Берсенев понимает, в чем дело. Друг как-то признался, что если бы влюбился, то непременно уехал бы: для личного чувства он не изменит долгу ("...Мне русской любви не нужно..."). Услышав все это, Елена сама отправляется к Инсарову.
Тот подтвердил: да, он должен уехать. Тогда Елене придется быть храбрее его. Он, видно, хочет заставить её первой признаться в любви. Что же, вот она и сказала это. Инсаров обнял её: "Так ты пойдешь за мной повсюду?" Да, пойдет, и её не остановит ни гнев родителей, ни необходимость оставить родину, ни опасности. Тогда они - муж и жена, заключает болгарин.
Между тем у Стаховых стал появляться некто Курнатовский, обер-секретарь в сенате. Его Стахов прочит в мужья Елене. И это не единственная опасность для любящих. Письма из Болгарии все тревожнее. Надо ехать, пока это ещё возможно, и Дмитрий начинает готовиться к отъезду. Раз,прохлопотав весь день, он попал под ливень, вымок до костей. Наутро, несмотря на головную боль,продолжил хлопоты. Но к обеду появился сильный жар, а к вечеру он слег совсем. Восемь дней Инсаров находится между жизнью и смертью. Берсенев все это время ухаживает за больным и сообщает о его состоянии Елене. Наконец кризис миновал. Однако до настоящего выздоровления далеко, и Дмитрий ещё долго не покидает своего жилища. Елене не терпится увидеть его, она просит Берсенева в один из дней не приходить к другу и является к Инсарову в легком шелковом платье,свежая, молодая и счастливая. Они долго и с жаром говорят о своих проблемах, о золотом сердце любящего Елену Берсенева, о необходимости торопиться с отъездом. В этот же день они уже не на словах становятся мужем и женой. Свидание их не остается тайной для родителей.
Николай Артемьевич требует дочь к ответу. Да, признается она, Инсаров - её муж, и на будущей неделе они уезжают в Болгарию. "К туркам!" - Анна Васильевна лишается чувств. Николай Артемьевич хватает дочь за руку, но в это время Шубин кричит: "Николай Артемьевич! Августина Христиановна приехала и зовет вас!".
Через минуту он уже беседует с Уваром Ивановичем, отставным шестидесятилетним корнетом,который живет у Стаховых, ничего не делает, ест часто и много, всегда невозмутим и выражается примерно так: "Надо бы... как-нибудь, того..." При этом отчаянно помогает себе жестами. Шубин называет его представителем хорового начала и черноземной силы.
Ему Павел Яковлевич и высказывает свое восхищение Еленой. Она ничего и никого не боится. Он её понимает. Кого она здесь оставляет? Курнатовских, да Берсеневых, да вот таких, как он сам. И это ещё лучшие. Нет пока у нас людей. Все либо мелюзга, гамлетики, либо темнота и глушь, либо переливатели из пустого в порожнее. Кабы были меж нами путные люди, не ушла бы от нас эта чуткая душа. "Когда у нас народятся люди, Иван Иванович?" - "Дай срок, будут", - отвечает тот.
И вот молодые в Венеции. Позади трудный переезд и два месяца болезни в Вене. Из Венеции путь в Сербию и потом в Болгарию. Остается дождаться старого морского волка Рендича, который переправит через море.
Венеция как нельзя лучше помогла на время забыть тяготы путешествия и волнения политики. Все,что мог дать этот неповторимый город, любящие взяли сполна. Лишь в театре, слушая "Травиату",они смущены сценой прощания умирающей от чахотки Виолетты и Альфреда, её мольбой: "Дай мне жить... умереть такой молодой!" Ощущение счастья оставляет Елену: "Неужели же нельзя умолить,отвратить, спасти [...] Я была счастлива... А с какого права?.. А если это не дается даром?".
На другой день Инсарову становится хуже. Поднялся жар, он впал в забытье. Измученная, Елена засыпает и видит сон: лодку на Царицынском пруду, потом оказавшуюся в беспокойном море,но налетает снежный вихрь, и она уже не в лодке, а в повозке. Рядом Катя. Вдруг повозка летит в снежную пропасть, Катя смеется и зовет её из бездны: "Елена!" Она поднимает голову и видит бледного Инсарова: "Елена, я умираю!" Рендич уже не застает его в живых. Елена упросила сурового моряка отвезти гроб с телом мужа и её саму на его родину.
Через три недели Анна Васильевна получила письмо из Венеции. Дочь едет в Болгарию. Для нее нет теперь другой родины. "Я искала счастья - и найду, может быть, смерть. Видно... была вина".
Достоверно дальнейшая судьба Елены так и осталась невыясненной. Некоторые поговаривали, что видели её потом в Герцеговине сестрой милосердия при войске в неизменном черном наряде. Дальше след её терялся.
Шубин, изредка переписываясь с Уваром Ивановичем, напомнил ему давний вопрос: "Так что же,будут ли у нас люди?" Увар Иванович поиграл перстами и устремил вдаль свой загадочный взор.
В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцева, в один из самых жарких летних дней 1853 года лежали на траве два молодых человека. Один, на вид лет двадцати трех, высокого роста, черномазый, с острым и немного кривым носом, высоким лбом и сдержанною улыбкой на широких губах, лежал на спине и задумчиво глядел вдаль, слегка прищурив свои небольшие серые глазки; другой лежал на груди, подперев обеими руками кудрявую белокурую голову, и тоже глядел куда-то вдаль. Он был тремя годами старше своего товарища, но казался гораздо моложе; усы его едва пробились и на подбородке вился легкий пух. Было что-то детски-миловидное, что-то привлекательно изящное в мелких чертах его свежего, круглого лица, в его сладких карих глазах, красивых выпуклых губках и белых ручках. Всё в нем дышало счастливою веселостью здоровья, дышало молодостью — беспечностью, самонадеянностью, избалованностью, прелестью молодости. Он и поводил глазами, и улыбался, и подпирал голову, как это делают мальчики, которые знают, что на них охотно заглядываются. На нем было просторное белое пальто вроде блузы; голубой платок охватывал его тонкую шею, измятая соломенная шляпа валялась в траве возле него. В сравнении с ним его товарищ казался стариком, и никто бы не подумал, глядя на его угловатую фигуру, что и он наслаждается, что и ему хорошо. Он лежал неловко; его большая, кверху широкая, книзу заостренная голова неловко сидела на длинной шее; неловкость сказывалась в самом положении его рук, его туловища, плотно охваченного коротким черным сюртучком, его длинных ног с поднятыми коленями, подобных задним ножкам стрекозы. Со всем тем нельзя было не признать в нем хорошо воспитанного человека; отпечаток «порядочности» замечался во всем его неуклюжем существе, и лицо его, некрасивое и даже несколько смешное, выражало привычку мыслить и доброту. Звали его Андреем Петровичем Берсеневым; его товарищ, белокурый молодой человек, прозывался Шубиным, Павлом Яковлевичем. — Отчего ты не лежишь, как я, на груди? — начал Шубин. — Так гораздо лучше. Особенно когда поднимешь ноги и стучишь каблуками дружку о дружку — вот так. Трава под носом: надоест глазеть на пейзаж — смотри на какую-нибудь пузатую козявку, как она ползет по былинке, или на муравья, как он суетится. Право, так лучше. А то ты принял теперь какую-то псевдоклассическую позу, ни дать ни взять танцовщица в балете, когда она облокачивается на картонный утес. Ты вспомни, что ты теперь имеешь полное право отдыхать. Шутка сказать: вышел третьим кандидатом! Отдохните, сэр; перестаньте напрягаться, раскиньте свои члены! Шубин произнес всю эту речь в нос, полулениво, полушутливо (балованные дети говорят так с друзьями дома, которые привозят им конфекты), и, не дождавшись ответа, продолжал: — Меня больше всего поражает в муравьях, жуках и других господах насекомых их удивительная серьезность; бегают взад и вперед с такими важными физиономиями, точно и их жизнь что-то значит! Помилуйте, человек, царь созданья, существо высшее, на них взирает, а им и дела до него нет; еще, пожалуй, иной комар сядет на нос царю создания и станет употреблять его себе в пищу. Это обидно. А с другой стороны, чем их жизнь хуже нашей жизни? И отчего же им не важничать, если мы позволяем себе важничать? Ну-ка, философ, разреши мне эту задачу! Что ж ты молчишь? А? — Что? — проговорил, встрепенувшись, Берсенев. — Что! — повторил Шубин. — Твой друг излагает перед тобою глубокие мысли, а ты его не слушаешь. — Я любовался видом. Посмотри, как эти поля горячо блестят на солнце! (Берсенев немного пришепетывал.) — Важный пущен колер, — промолвил Шубин. — Одно слово, натура! Берсенев покачал головой. — Тебе бы еще больше меня следовало восхищаться всем этим. Это по твоей части: ты артист. — Нет-с; это не по моей части-с, — возразил Шубин и надел шляпу на затылок. — Я мясник-с; мое дело — мясо, мясо лепить, плечи, ноги, руки, а тут и формы нет, законченности нет, разъехалось во все стороны... Пойди поймай! — Да ведь и тут красота, — заметил Берсенев. — Кстати, кончил ты свой барельеф? — Какой? — Ребенка с козлом. — К чёрту! к чёрту! к чёрту! — воскликнул нараспев Шубин. — Посмотрел на настоящих, на стариков, на антики, да и разбил свою чепуху. Ты указываешь мне на природу и говоришь: «И тут красота». Конечно, во всем красота, даже и в твоем носе красота, да за всякою красотой не угоняешься. Старики — те за ней и не гонялись; она сама сходила в их создания, откуда — бог весть, с неба, что ли. Им весь мир принадлежал; нам так широко распространяться не приходится: коротки руки. Мы закидываем удочку на одной точечке, да и караулим. Клюнет — браво! а не клюнет... Шубин высунул язык. — Постой, постой, — возразил Берсенев. — Это парадокс. Если ты не будешь сочувствовать красоте, любить ее всюду, где бы ты ее ни встретил, так она тебе и в твоем искусстве не дастся. Если прекрасный вид, прекрасная музыка ничего не говорят твоей душе, я хочу сказать, если ты им не сочувствуешь... — Эх ты, сочувственник! — брякнул Шубин и сам засмеялся новоизобретенному слову, а Берсенев задумался. — Нет, брат, — продолжал Шубин, — ты умница, философ, третий кандидат Московского университета, с тобой спорить страшно, особенно мне, недоучившемуся студенту; но я тебе вот что скажу: кроме своего искусства, я люблю красоту только в женщинах... в девушках, да и то с некоторых пор... Он перевернулся на спину и заложил руки за голову. Несколько мгновений прошло в молчании. Тишина полуденного зноя тяготела над сияющей и заснувшей землей. — Кстати, о женщинах, — заговорил опять Шубин. — Что это никто не возьмет Стахова в руки? Ты видел его в Москве? — Нет. — Совсем с ума сошел старец. Сидит по целым дням у своей Августины Христиановны, скучает страшно, а сидит. Глазеют друг на друга, так глупо... Даже противно смотреть. Вот поди ты! Каким семейством бог благословил этого человека: нет, подай ему Августину Христиановну! Я ничего не знаю гнуснее ее утиной физиономии! На днях я вылепил ее карикатуру, в дантановском вкусе. Очень вышло недурно. Я тебе покажу. — А Елены Николаевны бюст, — спросил Берсенев, — подвигается? — Нет, брат, не подвигается. От этого лица можно в отчаяние прийти. Посмотришь, линии чистые, строгие, прямые; кажется, нетрудно схватить сходство. Не тут-то было... Не дается, как клад в руки. Заметил ты, как она слушает? Ни одна черта не тронется, только выражение взгляда беспрестанно меняется, а от него меняется вся фигура. Что тут прикажешь делать скульптору, да еще плохому? Удивительное существо... странное существо, — прибавил он после короткого молчания. — Да; она удивительная девушка, — повторил за ним Берсенев. — А дочь Николая Артемьевича Стахова! Вот после этого и рассуждай о крови, о породе. И ведь забавно то, что она точно его дочь, похожа на него и на мать похожа, на Анну Васильевну. Я Анну Васильевну уважаю от всего сердца, она же моя благодетельница; но ведь она курица. Откуда же взялась эта душа у Елены? Кто зажег этот огонь? Вот опять тебе задача, философ! Но «философ» по-прежнему ничего не отвечал. Берсенев вообще не грешил многоглаголанием и, когда говорил, выражался неловко, с запинками, без нужды разводя руками; а в этот раз какая-то особенная тишина нашла на его душу, — тишина, похожая на усталость и на грусть. Он недавно переселился за город после долгой и трудной работы, отнимавшей у него по нескольку часов в день. Бездействие, нега и чистота воздуха, сознание достигнутой цели, прихотливый и небрежный разговор с приятелем, внезапно вызванный образ милого существа — все эти разнородные и в то же время почему-то сходные впечатления слились в нем в одно общее чувство, которое и успокоивало его, и волновало, и обессиливало... Он был очень нервический молодой человек. Под липой было прохладно и спокойно; залетавшие в круг ее тени мухи и пчелы, казалось, жужжали тише; чистая мелкая трава изумрудного цвета, без золотых отливов, не колыхалась; высокие стебельки стояли неподвижно, как очарованные; как очарованные, как мертвые, висели маленькие гроздья желтых цветов на нижних ветках липы. Сладкий запах с каждым дыханием втеснялся в самую глубь груди, но грудь им охотно дышала. Вдали, за рекой, до небосклона всё сверкало, всё горело; изредка пробегал там ветерок и дробил и усиливал сверкание; лучистый пар колебался над землей. Птиц не было слышно: они не поют в часы зноя; но кузнечики трещали повсеместно, и приятно было слушать этот горячий звук жизни, сидя в прохладе, на покое: он клонил ко сну и будил мечтания. — Заметил ли ты, — начал вдруг Берсенев, помогая своей речи движениями рук, — какое странное чувство возбуждает в нас природа? Всё в ней так полно, так ясно, я хочу сказать, так удовлетворено собою, и мы это понимаем и любуемся этим, и в то же время она, по крайней мере во мне, всегда возбуждает какое-то беспокойство, какую-то тревогу, даже грусть. Что это значит? Сильнее ли сознаем мы перед нею, перед ее лицом, всю нашу неполноту, нашу неясность, или же нам мало того удовлетворения, каким она довольствуется, а другого, то есть я хочу сказать, того, чего нам нужно, у нее нет? — Гм, — возразил Шубин, — я тебе скажу, Андрей Петрович, отчего всё это происходит. Ты описал ощущения одинокого человека, который не живет, а только смотрит да млеет. Чего смотреть? Живи сам и будешь молодцом. Сколько ты ни стучись природе в дверь, не отзовется она понятным словом, потому что она немая. Будет звучать и ныть, как струна, а песни от нее не жди. Живая душа — та отзовется, и по преимуществу женская душа. А потому, благородный друг мой, советую тебе запастись подругой сердца, и все твои тоскливые ощущения тотчас исчезнут. Вот что нам «нужно», как ты говоришь. Ведь эта тревога, эта грусть, ведь это просто своего рода голод. Дай желудку настоящую пищу, и всё тотчас придет в порядок. Займи свое место в пространстве, будь телом, братец ты мой. Да и что такое, к чему природа? Ты послушай сам: любовь... какое сильное, горячее слово! Природа... какое холодное, школьное выражение! А потому (Шубин запел): «Да здравствует Марья Петровна!» — или нет, — прибавил он, — не Марья Петровна, ну да всё равно! Ву ме компрене́. Берсенев приподнялся и оперся подбородком на сложенные руки. — Зачем насмешка, — проговорил он, не глядя на своего товарища, — зачем глумление? Да, ты прав: любовь — великое слово, великое чувство... Но о какой любви говоришь ты? Шубин тоже приподнялся. — О какой любви? О какой угодно, лишь бы она была налицо. Признаюсь тебе, по-моему, вовсе нет различных родов любви. Коли ты полюбил... — От всей души, — подхватил Берсенев. — Ну да, это само собой разумеется, душа не яблоко: ее не разделишь. Коли ты полюбил, ты и прав. А я не думал глумиться. У меня на сердце теперь такая нежность, так оно смягчено... Я хотел только объяснить, почему природа, по-твоему, так на нас действует. Потому, что она будит в нас потребность любви и не в силах удовлетворить ее. Она нас тихо гонит в другие, живые объятия, а мы ее не понимаем и чего-то ждем от нее самой. Ах, Андрей, Андрей, прекрасно это солнце, это небо, всё, всё вокруг нас прекрасно, а ты грустишь; но если бы в это мгновение ты держал в своей руке руку любимой женщины, если б эта рука и вся эта женщина были твои, если бы ты даже глядел ее глазами, чувствовал не своим, одиноким, а ее чувством, — не грусть, Андрей, не тревогу возбуждала бы в тебе природа, и не стал бы ты замечать ее красоты; она бы сама радовалась и пела, она бы вторила твоему гимну, потому что ты в нее, в немую, вложил бы тогда язык! Шубин вскочил на ноги и прошелся раза два взад и вперед, а Берсенев наклонил голову, и лицо его покрылось слабой краской. — Я не совсем согласен с тобою, — начал он, — не всегда природа намекает нам на... любовь. (Он не сразу произнес это слово.) Она также грозит нам; она напоминает о страшных... да, о недоступных тайнах. Не она ли должна поглотить нас, не беспрестанно ли она поглощает нас? В ней и жизнь и смерть; и смерть в ней так же громко говорит, как и жизнь. — И в любви жизнь и смерть, — перебил Шубин. — А потом, — продолжал Берсенев, — когда я, например, стою весной в лесу, в зеленой чаще, когда мне чудятся романтические звуки Оберонова рога (Берсеневу стало немножко совестно, когда он выговорил эти слова), — разве и это... — Жажда любви, жажда счастия, больше ничего! — подхватил Шубин. — Знаю и я эти звуки, знаю и я то умиление и ожидание, которые находят на душу под сенью леса, в его недрах, или вечером, в открытых полях, когда заходит солнце и река дымится за кустами. Но и от леса, и от реки, и от земли, и от неба, от всякого облачка, от всякой травки я жду, я хочу счастия, я во всем чую его приближение, слышу его призыв! «Мой бог — бог светлый и веселый!» Я было так начал одно стихотворение; сознайся: славный первый стих, да второго никак подобрать не мог. Счастья! счастья! пока жизнь не прошла, пока все наши члены в нашей власти, пока мы идем не под гору, а в гору! Чёрт возьми! — продолжал Шубин с внезапным порывом, — мы молоды, не уроды, не глупы: мы завоюем себе счастие! Он встряхнул кудрями и самоуверенно, почти с вызовом, глянул вверх, на небо. Берсенев поднял на него глаза. — Будто нет ничего выше счастья? — проговорил он тихо. — А например? — спросил Шубин и остановился. — Да вот, например, мы с тобой, как ты говоришь, молоды, мы хорошие люди, положим; каждый из нас желает для себя счастья... Но такое ли это слово «счастье», которое соединило, воспламенило бы нас обоих, заставило бы нас подать друг другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово? — А ты знаешь такие слова, которые соединяют? — Да; и их не мало; и ты их знаешь. — Ну-ка? какие это слова? — Да хоть бы искусство, — так как ты художник, — родина, наука, свобода, справедливость. — А любовь? — спросил Шубин. — И любовь соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь жаждешь: не любовь-наслаждение, любовь-жертва. Шубин нахмурился. — Это хорошо для немцев; а я хочу любить для себя; я хочу быть номером первым. — Номером первым, — повторил Берсенев. — А мне кажется, поставить себя номером вторым — всё назначение нашей жизни. — Если все так будут поступать, как ты советуешь, — промолвил с жалобною гримасой Шубин, — никто на земле не будет есть ананасов: все другим их предоставлять будут. — Значит, ананасы не нужны; а впрочем, не бойся: всегда найдутся любители даже хлеб от чужого рта отнимать. Оба приятеля помолчали. — Я на днях опять встретил Инсарова, — начал Берсенев, — я пригласил его к себе; я непременно хочу познакомить его с тобой... и с Стаховыми. — Какой это Инсаров? Ах, да, этот серб или болгар, о котором ты мне говорил? Патриот этот? Уж не он ли внушил тебе все эти философические мысли? — Может быть. — Необыкновенный он индивидуум, что ли? — Да. — Умный? Даровитый? — Умный?... Да. Даровитый? Не знаю, не думаю. — Нет? Что же в нем замечательного? — Вот увидишь. А теперь, я думаю, нам пора идти. Анна Васильевна нас, чай, дожидается. Который-то час? — Третий. Пойдем. Как душно! Этот разговор во мне всю кровь зажег. И у тебя была минута... я недаром артист: я на всё заметлив. Признайся, занимает тебя женщина?.. Шубин хотел заглянуть в лицо Берсеневу, но он отвернулся и вышел из-под липы. Шубин отправился вслед за ним, развалисто-грациозно переступая своими маленькими ножками. Берсенев двигался неуклюже, высоко поднимал на ходу плечи, вытягивал шею; а все-таки он казался более порядочным человеком, чем Шубин, более джентльменом, сказали бы мы, если б это слово не было у нас так опошлено.1
В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцова, в один из самых жарких летних дней 1853 года лежали на траве два молодых человека. Один, на вид лет двадцати трех, высокого роста, черномазый, с острым и немного кривым носом, высоким лбом и сдержанною улыбкой на широких губах, лежал на спине и задумчиво глядел вдаль, слегка прищурив свои небольшие серые глазки; другой лежал на груди, подперев обеими руками кудрявую белокурую голову, и тоже глядел куда-то вдаль. Он был тремя годами старше своего товарища, но казался гораздо моложе, усы его едва пробились, и на подбородке вился легкий пух. Было что-то детски-миловидное, что-то привлекательно изящное в мелких чертах его свежего, круглого лица, в его сладких, карих глазах, красивых, выпуклых губках и белых ручках. Все в нем дышало счастливою веселостью здоровья, дышало молодостью – беспечностью, самонадеянностью, избалованностью, прелестью молодости. Он и поводил глазами, и улыбался, и подпирал голову, как это делают мальчики, которые знают, что на них охотно заглядываются. На нем было просторное белое пальто вроде блузы; голубой платок охватывал его тонкую шею, измятая соломенная шляпа валялась в траве возле него.
В сравнении с ним его товарищ казался стариком, и никто бы не подумал, глядя на его угловатую фигуру, что и он наслаждается, что и ему хорошо. Он лежал неловко; его большая, кверху широкая, книзу заостренная голова неловко сидела на длинной шее; неловкость сказывалась в самом положении его рук, его туловища, плотно охваченного коротким черным сюртучком, его длинных ног с поднятыми коленями, подобных задним ножкам стрекозы. Со всем тем нельзя было не признать в нем хорошо воспитанного человека; отпечаток «порядочности» замечался во всем его неуклюжем существе, и лицо его, некрасивое и даже несколько смешное, выражало привычку мыслить и доброту. Звали его Андреем Петровичем Берсеневым; его товарищ, белокурый молодой человек, прозывался Шубиным, Павлом Яковлевичем.
– Отчего ты не лежишь, как я, на груди? – начал Шубин. – Так гораздо лучше. Особенно когда поднимешь ноги и стучишь каблуками дружку о дружку – вот так. Трава под носом: надоест глазеть на пейзаж – смотри на какую-нибудь пузатую козявку, как она ползет по былинке, или на муравья, как он суетится. Право, так лучше. А то ты принял теперь какую-то псевдоклассическую позу, ни дать ни взять танцовщица в балете, когда она облокачивается на картонный утес. Ты вспомни, что ты теперь имеешь полное право отдыхать. Шутка сказать: вышел третьим кандидатом! Отдохните, сэр; перестаньте напрягаться, раскиньте свои члены!
Шубин произнес всю эту речь в нос, полулениво, полушутливо (балованные дети говорят так с друзьями дома, которые привозят им конфеты), и, не дождавшись ответа, продолжал:
– Меня больше всего поражает в муравьях, жуках и других господах насекомых их удивительная серьезность; бегают взад и вперед с такими важными физиономиями, точно и их жизнь что-то значит! Помилуйте, человек, царь созданья, существо высшее, на них взирает, а им и дела до него нет: еще, пожалуй, иной комар сядет на нос царю создания и станет употреблять его себе в пищу. Это обидно. А с другой стороны, чем их жизнь хуже нашей жизни? И отчего же им не важничать, если мы позволяем себе важничать? Ну-ка, философ, разреши мне эту задачу! Что ж ты молчишь? А?
– Что? – проговорил, встрепенувшись, Берсенев.
– Что! – повторил Шубин. – Твой друг излагает перед тобою глубокие мысли, а ты его не слушаешь.
– Я любовался видом. Посмотри, как эти поля горячо блестят на солнце! (Берсенев немного пришепетывал.)
– Важный пущен колер, – промолвил Шубин. – Одно слово, натура!
Берсенев покачал головой.
– Тебе бы еще больше меня следовало восхищаться всем этим. Это по твоей части: ты артист.
– Нет-с; это не по моей части-с, – возразил Шубин и надел шляпу на затылок. – Я мясник-с; мое дело – мясо, мясо лепить, плечи, ноги, руки, а тут и формы нет, законченности нет, разъехалось во все стороны… Пойди поймай!
– Да ведь и тут красота, – заметил Берсенев. – Кстати, кончил ты свой барельеф?
– Ребенка с козлом.
– К черту! К черту! К черту! – воскликнул нараспев Шубин. – Посмотрел на настоящих, на стариков, на антики, да и разбил свою чепуху. Ты указываешь мне на природу и говоришь: «И тут красота». Конечно, во всем красота, даже и в твоем носе красота, да за всякою красотой не угоняешься. Старики – те за ней и не гонялись; она сама сходила в их создания, откуда – Бог весть, с неба, что ли. Им весь мир принадлежал; нам так широко распространяться не приходится: коротки руки. Мы закидываем удочку на одной точечке, да и караулим. Клюнет, браво! а не клюнет…
Шубин высунул язык.
– Постой, постой, – возразил Берсенев. – Это парадокс. Если ты не будешь сочувствовать красоте, любить ее всюду, где бы ты ее ни встретил, так она тебе и в твоем искусстве не дастся. Если прекрасный вид, прекрасная музыка ничего не говорят твоей душе, я хочу сказать, если ты им не сочувствуешь…
– Эх ты, сочувственник! – брякнул Шубин и сам засмеялся новоизобретенному слову, а Берсенев задумался. – Нет, брат, – продолжал Шубин, – ты умница, философ, третий кандидат Московского университета, с тобой спорить страшно, особенно мне, недоучившемуся студенту; но я тебе вот что скажу: кроме своего искусства, я люблю красоту только в женщинах… в девушках, да и то с некоторых пор…
Он перевернулся на спину и заложил руки за голову.
Несколько мгновений прошло в молчании. Тишина полуденного зноя тяготела над сияющей и заснувшей землей.
– Кстати, о женщинах, – заговорил опять Шубин. – Что это никто не возьмет Стахова в руки? Ты видел его в Москве?
– Совсем с ума сошел старец. Сидит по целым дням у своей Августины Христиановны, скучает страшно, а сидит. Глазеют друг на друга, так глупо… Даже противно смотреть. Вот поди ты! Каким семейством Бог благословил этого человека: нет, подай ему Августину Христиановну! Я ничего не знаю гнуснее ее утиной физиономии! На днях я вылепил ее карикатуру, в дантовском вкусе. Очень вышло недурно. Я тебе покажу.
– А Елены Николаевны бюст, – спросил Берсенев, – подвигается?
– Нет, брат, не подвигается. От этого лица можно в отчаяние прийти. Посмотришь, линии чистые, строгие, прямые; кажется, не трудно схватить сходство. Не тут-то было… Не дается, как клад в руки. Заметил ты, как она слушает? Ни одна черта не тронется, только выражение взгляда беспрестанно меняется, а от него меняется вся фигура. Что тут прикажешь делать скульптору, да еще плохому? Удивительное существо… странное существо, – прибавил он после короткого молчания.
– Да; она удивительная девушка, – повторил за ним Берсенев.
– А дочь Николая Артемьевича Стахова! Вот после этого и рассуждай о крови, о породе. И ведь забавно то, что она точно его дочь, похожа на него и на мать похожа, на Анну Васильевну. Я Анну Васильевну уважаю от всего сердца, она же моя благодетельница; но ведь она курица. Откуда же взялась эта душа у Елены? Кто зажег этот огонь? Вот опять тебе задача, философ!
Но «философ» по-прежнему ничего не отвечал! Берсенев вообще не грешил многоглаголанием и, когда говорил, выражался неловко, с запинками, без нужды разводя руками; а в этот раз какая-то особенная тишина нашла на его душу, тишина, похожая на усталость и на грусть. Он недавно переселился за город после долгой и трудной работы, отнимавшей у него по нескольку часов в день. Бездействие, нега и чистота воздуха, сознание достигнутой цели, прихотливый и небрежный разговор с приятелем, внезапно вызванный образ милого существа, все эти разнородные и в то же время почему-то сходные впечатления слились в нем в одно общее чувство, которое и успокоивало его, и волновало, и обессиливало… Он был очень нервический молодой человек.
Под липой было прохладно и спокойно; залетавшие в круг ее тени мухи и пчелы, казалось, жужжали тише; чистая мелкая трава изумрудного цвета, без золотых отливов, не колыхалась; высокие стебельки стояли неподвижно, как очарованные; как мертвые, висели маленькие гроздья желтых цветов на нижних ветках липы. Сладкий запах с каждым дыханием втеснялся в самую глубь груди, но грудь им охотно дышала. Вдали, за рекой, до небосклона все сверкало, все горело; изредка пробегал там ветерок и дробил и усиливал сверкание; лучистый пар колебался над землей. Птиц не было слышно: они не поют в часы зноя; но кузнечики трещали повсеместно, и приятно было слушать этот горячий звук жизни, сидя в прохладе, на покое: он клонил ко сну и будил мечтания.
– Заметил ли ты, – начал вдруг Берсенев, помогая своей речи движениями рук, – какое странное чувство возбуждает в нас природа? Все в ней так полно, так ясно, я хочу сказать, так удовлетворено собою, и мы это понимаем и любуемся этим, и в то же время она, по крайней мере во мне, всегда возбуждает какое-то беспокойство, какую-то тревогу, даже грусть. Что это значит? Сильнее ли сознаем мы перед нею, перед ее лицом, всю нашу неполноту, нашу неясность, или же нам мало того удовлетворения, каким она довольствуется, а другого, то есть я хочу сказать, того, чего нам нужно, у нее нет?
– Гм, – возразил Шубин, – я тебе скажу, Андрей Петрович, отчего все это происходит. Ты описал ощущения одинокого человека, который не живет, а только смотрит да млеет. Чего смотреть? Живи сам и будешь молодцом. Сколько ты ни стучись природе в дверь, не отзовется она понятным словом, потому что она немая. Будет звучать и ныть, как струна, а песни от нее не жди. Живая душа – та отзовется, и по преимуществу женская душа. А потому, благородный друг мой, советую тебе запастись подругой сердца, и все твои тоскливые ощущения тотчас исчезнут. Вот что нам «нужно», как ты говоришь. Ведь эта тревога, эта грусть, ведь это просто своего рода голод. Дай желудку настоящую пищу, и все тотчас придет в порядок. Займи свое место в пространстве, будь телом, братец ты мой. Да и что такое, к чему природа? Ты послушай сам: любовь… какое сильное, горячее слово! Природа… какое холодное, школьное выражение! А потому (Шубин запел): «Да здравствует Марья Петровна!» – или нет, – прибавил он, – не Марья Петровна, ну да все равно! Ву ме компрене.
Берсенев приподнялся и оперся подбородком на сложенные руки.
– Зачем насмешка, – проговорил он, не глядя на своего товарища, – зачем глумление? Да, ты прав: любовь – великое слово, великое чувство… Но о какой любви говоришь ты?
Шубин тоже приподнялся.
– О какой любви? О какой угодно, лишь бы она была налицо. Признаюсь тебе, по-моему, вовсе нет различных родов любви. Коли ты полюбил…
– От всей души, – подхватил Берсенев.
– Ну да, это само собой разумеется, душа не яблоко: ее не разделишь. Коли ты полюбил, ты и прав. А я не думал глумиться. У меня на сердце теперь такая нежность, так оно смягчено… Я хотел только объяснить, почему природа, по-твоему, так на нас действует. Потому, что она будит в нас потребность любви и не в силах удовлетворить ее. Она нас тихо гонит в другие, живые объятия, а мы ее не понимаем и чего-то ждем от нее самой. Ах, Андрей, Андрей, прекрасно это солнце, это небо, все, все вокруг нас прекрасно, а ты грустишь; но если бы в это мгновение ты держал в своей руке руку любимой женщины, если б эта рука и вся эта женщина были твои, если бы ты даже глядел ее глазами, чувствовал не своим, одиноким, а ее чувством, – не грусть, Андрей, не тревогу возбуждала бы в тебе природа, и не стал бы ты замечать ее красоты; она бы сама радовалась и пела, она бы вторила твоему гимну, потому что ты в нее, в немую, вложил бы тогда язык!
Шубин вскочил на ноги и прошелся раза два взад и вперед, а Берсенев наклонил голову, и лицо его покрылось слабой краской.
– Я не совсем согласен с тобою, – начал он, – не всегда природа намекает нам на… любовь. (Он не сразу произнес это слово.) Она также грозит нам; она напоминает о страшных… да, о недоступных тайнах. Не она ли должна поглотить нас, не беспрестанно ли она поглощает нас? В ней и жизнь и смерть; и смерть в ней так же громко говорит, как и жизнь.
– И в любви жизнь и смерть, – перебил Шубин.
– А потом, – продолжал Берсенев, – когда я, например, стою весной в лесу, в зеленой чаще, когда мне чудятся романтические звуки Оберонова рога (Берсеневу стало немножко совестно, когда он выговорил эти слова), – разве и это…
– Жажда любви, жажда счастия, больше ничего! – подхватил Шубин. – Знаю и я эти звуки, знаю и я то умиление и ожидание, которые находят на душу под сенью леса, в его недрах, или вечером, в открытых полях, когда заходит солнце и река дымится за кустами. Но и от леса, и от реки, и от земли, и от неба, от всякого облачка, от всякой травки я жду, я хочу счастия, я во всем чую его приближение, слышу его призыв! «Мой бог – Бог светлый и веселый!» Я было так начал одно стихотворение; сознайся: славный первый стих, да второго никак подобрать не мог. Счастья! Счастья! пока жизнь не прошла, пока все наши члены в нашей власти, пока мы идем не под гору, а в гору! Черт возьми! – продолжал Шубин с внезапным порывом, – мы молоды, не уроды, не глупы: мы завоюем себе счастие!
Он встряхнул кудрями и самоуверенно, почти с вызовом, глянул вверх, на небо. Берсенев поднял на него глаза.
– Будто нет ничего выше счастья? – проговорил он тихо.
– А например? – спросил Шубин и остановился.
– Да вот, например, мы с тобой, как ты говоришь, молоды, мы хорошие люди, положим; каждый из нас желает для себя счастья… Но такое ли это слово «счастье», которое соединило, воспламенило бы нас обоих, заставило бы нас подать друг другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово?
– А ты знаешь такие слова, которые соединяют?
– Да; и их не мало; и ты их знаешь.
– Ну-ка? Какие это слова?
– Да хоть бы искусство, – так как ты художник, – родина, наука, свобода, справедливость.
– А любовь? – спросил Шубин.
– И любовь соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь жаждешь: не любовь-наслаждение, любовь-жертва.
Шубин нахмурился.
– Это хорошо для немцев; а я хочу любить для себя; я хочу быть нумером первым.
– Нумером первым, – повторил Берсенев. – А мне кажется, поставить себя нумером вторым – все назначение нашей жизни.
– Если все так будут поступать, как ты советуешь, – промолвил с жалобною гримасой Шубин, – никто на земле не будет есть ананасов: все другим их предоставлять будут.
– Значит, ананасы не нужны; а впрочем, не бойся: всегда найдутся любители даже хлеб от чуждого рта отнимать.
Оба приятеля помолчали.
– Я на днях опять встретил Инсарова, – начал Берсенев, – я пригласил его к себе; я непременно хочу познакомить его с тобой… и с Стаховыми.
– Какой это Инсаров? Ах да, этот серб или болгар, о котором ты мне говорил? Патриот этот? Уж не он ли внушил тебе все эти философические мысли?
– Может быть.
– Необыкновенный он индивидуум, что ли?
– Умный? Даровитый?
– Умный?.. Да. Даровитый? Не знаю, не думаю.
– Нет? Что же в нем замечательного?
– Вот увидишь. А теперь, я думаю, нам пора идти. Анна Васильевна нас, чай, дожидается. Который-то час?
– Третий. Пойдем. Как душно! Этот разговор во мне всю кровь зажег. И у тебя была минута… я недаром артист: я на все заметлив. Признайся, занимает тебя женщина?..
Шубин хотел заглянуть в лицо Берсеневу, но он отвернулся и вышел из-под липы. Шубин отправился вслед за ним, развалисто-грациозно переступая своими маленькими ножками. Берсенев двигался неуклюже, высоко поднимал на ходу плечи, вытягивал шею; а все-таки он казался более порядочным человеком, чем Шубин, более джентльменом, сказали бы мы, если б это слово не было у нас так опошлено.
2
Молодые люди спустились к Москве-реке и пошли вдоль ее берега. От воды веяло свежестью, и тихий плеск небольших волн ласкал слух.
– Я бы опять выкупался, – заговорил Шубин, – да боюсь опоздать. Посмотри на реку: она словно нас манит. Древние греки в ней признали бы нимфу. Но мы не греки, о нимфа! мы толстокожие скифы.
– У нас есть русалки, – заметил Берсенев.
– Поди ты с своими русалками! На что мне, ваятелю, эти исчадия запуганной, холодной фантазии, эти образы, рожденные в духоте избы, во мраке зимних ночей? Мне нужно света, простора… Когда же, Боже мой, поеду я в Италию? Когда…
– То есть, ты хочешь сказать, в Малороссию?
– Стыдно тебе, Андрей Петрович, упрекать меня в необдуманной глупости, в которой я и без того горько раскаиваюсь. Ну да, я поступил, как дурак: добрейшая Анна Васильевна дала мне денег на поездку в Италию, а я отправился к хохлам, есть галушки, и…
– Не договаривай, пожалуйста, – перебил Берсенев.
– И все-таки я скажу, что эти деньги не были истрачены даром. Я увидал там такие типы, особенно женские… Конечно, я знаю: вне Италии нет спасения!
– Ты поедешь в Италию, – проговорил Берсенев, не оборачиваясь к нему, – и ничего не сделаешь. Будешь все только крыльями размахивать и не полетишь. Знаем мы вас!
– Ставассер полетел же… И не он один. А не полечу – значит, я пингуин морской, без крыльев. Мне душно здесь, в Италию хочу, – продолжал Шубин, – там солнце, там красота…
Молодая девушка, в широкой соломенной шляпе, с розовым зонтиком на плече, показалась в это мгновение на тропинке, по которой шли приятели.
– Но что я вижу? И здесь к нам навстречу идет красота! Привет смиренного художника очаровательной Зое! – крикнул вдруг Шубин, театрально размахнув шляпой.
Молодая девушка, к которой относилось это восклицание, остановилась, погрозила ему пальцем и, допустив до себя обоих приятелей, проговорила звонким голоском и чуть-чуть картавя:
– Что же вы это, господа, обедать не идете? Стол накрыт.
– Что я слышу? – заговорил, всплеснув руками, Шубин. – Неужели вы, восхитительная Зоя, в такую жару решились идти нас отыскивать? Так ли я должен понять смысл вашей речи? Скажите, неужели? Или нет, лучше не произносите этого слова: раскаяние убьет меня мгновенно.
– Ах, перестаньте, Павел Яковлевич, – возразила не без досады девушка, – отчего вы никогда не говорите со мной серьезно? Я рассержусь, – прибавила она с кокетливой ужимкой и надула губки.
– Вы не рассердитесь на меня, идеальная Зоя Никитишна; вы не захотите повергнуть меня в мрачную бездну исступленного отчаяния. А серьезно я говорить не умею, потому что я не серьезный человек.
Девушка пожала плечом и обратилась к Берсеневу:
– Вот он всегда так: обходится со мной, как с ребенком; а мне уж восемнадцать лет минуло. Я уже большая.
– О Боже! – простонал Шубин и закатил глаза под лоб, а Берсенев усмехнулся молча.
Девушка топнула ножкой.
– Павел Яковлевич! Я рассержусь! Hélène пошла было со мною, – продолжала она, – да осталась в саду. Ее жара испугала, но я не боюсь жары. Пойдемте.
Она отправилась вперед по тропинке, слегка раскачивая свой тонкий стан при каждом шаге и откидывая хорошенькою ручкой, одетой в черную митенку, мягкие длинные локоны от лица.
Приятели пошли за нею (Шубин то безмолвно прижимал руки к сердцу, то поднимал их выше головы) и несколько мгновений спустя очутились перед одною из многочисленных дач, окружающих Кунцово. Небольшой деревянный домик с мезонином, выкрашенный розовою краской, стоял посреди сада и как-то наивно выглядывал из-за зелени деревьев. Зоя первая отворила калитку, вбежала в сад и закричала: «Привела скитальцев!» Молодая девушка с бледным и выразительным лицом поднялась со скамейки близ дорожки, а на пороге дома показалась дама в лиловом шелковом платье и, подняв вышитый батистовый платок над головою для защиты от солнца, улыбнулась томно и вяло.
3
Анна Васильевна Стахова, урожденная Шубина, семи лет осталась круглой сиротою и наследницей довольно значительного имения. У нее были родственники очень богатые и очень бедные: бедные по отцу, богатые по матери: сенатор Волгин, князья Чикурасовы. Князь Ардалион Чикурасов, назначенный к ней опекуном, поместил ее в лучший московский пансион, а по выходе ее из пансиона взял к себе в дом. Он жил открыто и давал зимой балы. Будущий муж Анны Васильевны, Николай Артемьевич Стахов, завоевал ее на одном из этих балов, где она была в «прелестном розовом платье с куафюрой из маленьких роз». Она берегла эту куафюру… Николай Артемьевич Стахов, сын отставного капитана, раненного в двенадцатом году и получившего доходное место в Петербурге, шестнадцати лет поступил в юнкерскую школу и вышел в гвардию. Он был красив собою, хорошо сложен и считался едва ли не лучшим кавалером на вечеринках средней руки, которые посещал преимущественно: в большой свет ему не было дороги. Смолоду его занимали две мечты: попасть в флигель-адъютанты и выгодно жениться: с первою мечтой он скоро расстался, но тем крепче держался за вторую. Вследствие этого он каждую зиму ездил в Москву. Николай Артемьевич порядочно говорил по-французски и слыл философом, потому что не кутил. Будучи только прапорщиком, он уже любил настойчиво поспорить, например, о том, можно ли человеку в течение всей своей жизни объездить весь земной шар, можно ли ему знать, что происходит на дне морском, – и всегда держался того мнения, что нельзя.
Николаю Артемьевичу минуло двадцать пять лет, когда он «подцепил» Анну Васильевну; он вышел в отставку и поехал в деревню хозяйничать. Деревенское житье ему скоро надоело, имение же было оброчное; он поселился в Москве, в доме жены. В молодости он ни в какие игры не играл, а тут пристрастился к лото, а когда запретили лото, к ералашу. Дома он скучал; сошелся со вдовой немецкого происхождения и проводил у ней почти все время. На лето пятьдесят третьего года он не переехал в Кунцово: он остался в Москве, будто бы для того, чтобы пользоваться минеральными водами; в сущности, ему не хотелось расстаться с своею вдовой. Впрочем, он и с ней разговаривал мало, а также больше спорил о том, можно ли предвидеть погоду и т. д. Раз кто-то назвал его frondeur; это название очень ему понравилось. «Да, – думал он, самодовольно опуская углы губ и покачиваясь, – меня удовлетворить не легко; меня не надуешь». Фрондерство Николая Артемьевича состояло в том, что он услышит, например, слово «нервы» и скажет: «А что такое нервы?» – или кто-нибудь упомянет при нем об успехах астрономии, а он скажет: «А вы верите в астрономию?» Когда же он хотел окончательно сразить противника, он говорил: «Все это одни фразы». Должно сознаться, что многим лицам такого рода возражения казались (и до сих пор кажутся) неопровержимыми; но Николай Артемьевич никак не подозревал того, что Августина Христиановна в письмах к своей кузине, Феодолинде Петерзилиус, называла его: Mein Pinselchen.
Жена Николая Артемьевича, Анна Васильевна, была маленькая и худенькая женщина, с тонкими чертами лица, склонная к волнению и грусти. В пансионе она занималась музыкой и читала романы, потом все это бросила: стала рядиться, и это оставила; занялась было воспитанием дочери, и тут ослабела и передала ее на руки к гувернантке; кончилось тем, что она только и делала что грустила и тихо волновалась. Рождение Елены Николаевны расстроило ее здоровье, и она уже не могла более иметь детей; Николай Артемьевич намекал на это обстоятельство, оправдывая свое знакомство с Августиной Христиановной. Неверность мужа очень огорчала Анну Васильевну; особенно больно ей было то, что он однажды обманом подарил своей немке пару серых лошадей с ее, Анны Васильевны, собственного завода. В глаза она его никогда не упрекала, но украдкой жаловалась на него поочередно всем в доме, даже дочери. Анна Васильевна не любила выезжать; ей было приятно, когда у ней сидел гость и рассказывал что-нибудь; в одиночестве она тотчас занемогала. Сердце у ней было очень любящее и мягкое: жизнь ее скоро перемолола.
Павел Яковлевич Шубин доводился ей троюродным племянником. Отец его служил в Москве. Братья его поступили в кадетские корпуса; он был самый младший, любимец матери, нежного телосложения: он остался дома. Его назначали в университет и с трудом поддерживали в гимназии. С ранних лет начал он оказывать наклонность к ваянию; тяжеловесный сенатор Волгин увидал однажды одну его статуэтку у его тетки (ему было тогда лет шестнадцать) и объявил, что намерен покровительствовать юному таланту. Внезапная смерть отца Шубина чуть было не изменила всей будущности молодого человека. Сенатор, покровитель талантов, подарил ему гипсовый бюст Гомера – и только; но Анна Васильевна помогла ему деньгами, и он, с грехом пополам, девятнадцати лет поступил в университет, на медицинский факультет. Павел не чувствовал никакого расположения к медицине, но, по существовавшему в то время штату студентов, ни в какой другой факультет поступить было невозможно; притом он надеялся поучиться анатомии. Но он не выучился анатомии; на второй курс он не перешел и, не дождавшись экзамена, вышел из университета, с тем чтобы посвятиться исключительно своему призванию. Он трудился усердно, но урывками; скитался по окрестностям Москвы, лепил и рисовал портреты крестьянских девок, сходился с разными лицами, молодыми и старыми, высокого и низкого полета, италиянскими формовщиками и русскими художниками, слышать не хотел об академии и не признавал ни одного профессора. Талантом он обладал положительным: его начали знать по Москве. Мать его, парижанка родом, хорошей фамилии, добрая и умная женщина, выучила его по-французски, хлопотала и заботилась о нем денно и нощно, гордилась им и, умирая еще в молодых летах от чахотки, упросила Анну Васильевну взять его к себе на руки. Ему тогда уже пошел двадцать первый год. Анна Васильевна исполнила ее последнее желание: он занимал небольшую комнатку во флигеле дачи.
Свой роман «Накануне» Тургенев Иван Сергеевич создал в 1859 г. Спустя год произведение было опубликовано. Несмотря на давность описанных в нем событий, роман остается востребованным и сегодня. Чем же он привлекает современного читателя? Попробуем разобраться в этом вопросе.
История создания
В 1850-х годах Тургенев, поддерживающий взгляды либерал-демократов, стал задумываться над возможностью создания такого героя, чьи позиции были бы достаточно революционными, но в то же время не вступали бы в противоречие с его собственными. Воплощение этой идеи позволило бы ему избежать насмешек более радикально настроенных коллег по «Современнику». Его понимание неизбежности смены поколений прогрессивных российских кругов уже отчетливо прозвучало в эпилоге к «Дворянскому гнезду» и нашло отражение в произведении «Рудин».
В 1856 г. помещиком Василием Каратеевым, соседом великого писателя по Мценскому уезду, были оставлены Тургеневу записки, служившие рукописью автобиографической повести. Это был рассказ, повествующий о несчастной любви автора к одной девушке, которая бросила его ради болгарского студента из Московского университета.
Несколько позже ученые нескольких стран провели исследования, в результате которых была установлена личность этого персонажа. Болгарином оказался Николай Катранов. Он приехал в Россию в 1848 г., поступив здесь в Московский университет. Девушка полюбила болгарина, и вместе они отправились на его родину в г. Свиштов. Однако все планы возлюбленных перечеркнула скоротечная болезнь. Болгарин заразился чахоткой и вскоре скончался. Однако девушка, несмотря на то что осталась одна, к Каратееву так и не вернулась.
Автор рукописи отправлялся в Крым для службы офицером дворянского ополчения. Он оставил свое произведение Тургеневу и предложил обработать его. Уже спустя 5 лет писатель начал создавать свой роман «Накануне». Основой этого произведения и послужила рукопись, оставленная Каратеевым, который к этому времени уже умер.
Шубин и Берсенев
Сюжет романа «Накануне» Тургенева начинается со спора. Его ведут два молодых человека - скульптор Павел Шубин и ученый Андрей Берсенев. Тема спора касается природы и места в ней человека.
И. С. Тургенев представляет читателю своих героев. Один из них - Берсенев Андрей Павлович. Этому молодому человеку 23 года. Он только что получил диплом Московского университета и мечтает начать ученую карьеру. Второго юношу, Шубина Павла Яковлевича, ждет искусство. Молодой человек является подающим надежды скульптором.
Их спор о природе и месте в ней человека возник не случайно. Берсенева поражает ее полнота и самодостаточность. Он уверен, что природа затмевает людей. И эти мысли вызывают в нем грусть и тревогу. По мнению Шубина, необходимо жить полной жизнью и не рефлексировать по этому поводу. Он рекомендует своему товарищу отвлечься от грустных мыслей, заведя подругу сердца.
После этого разговор молодых людей переходит в обыденное русло. Берсенев сообщает, что недавно видел Инсарова, и желает его знакомства с Шубиным и с семейством Стаховых. Они торопятся вернуться на дачу. Ведь нельзя опаздывать к обеду. Тетушка Павла, Анна Васильевна Стахова, будет крайне недовольна этим. А ведь именно благодаря этой женщине у Шубина появилась возможность заниматься своим любимым делом - ваянием.
Стахов Николай Артемьевич
О чем повествует нам приводимое в статье краткое содержание «Накануне»? Тургенев знакомит своего читателя с новым персонажем. Николай Артемьевич Стахов - это глава семейства, с юных лет мечтавший о выгодной женитьбе. В 25 задуманное им осуществилось. Он взял в жены Анну Васильевну Шубину. Но вскоре Стахов завел любовницу - Августину Христиановну. И та, и другая женщины уже наскучили Николаю Артемьевичу. Но он не разрывает своего порочного круга. Супруга терпит его неверность, несмотря на душевную боль.
Шубин и Стаховы
Что еще становится известно нам из краткого содержания «Накануне»? Тургенев рассказывает своему читателю о том, что Шубин живет в семействе Стаховых на протяжении почти пяти лет. Он переехал сюда после смерти матери, доброй и умной француженки. Отец Павла умер раньше нее.
Свое дело Шубин делает с большим усердием, но урывками. При этом он даже и не хочет слышать об академии и профессорах. И несмотря на то что в Москве полагают, что юноша подает большие надежды, он все-таки не смог сделать ничего выдающегося.
Здесь же И. С. Тургенев знакомит нас с главной героиней своего романа - Еленой Николаевной. Это дочь Стахова. Она очень нравится Шубину, однако юноша не упускает случая пококетничать с 17-летней пухленькой Зоей, являющейся компаньонкой Елены. Дочь Стахова не способна понять столь противоречивую личность. Ее возмущает отсутствие характера у любого человека и сердит глупость. Кроме того, девушка никогда не прощает лжи. Тот, кто потерял уважение, просто перестает для нее существовать.
Образ Елены Николаевны
Обзор романа «Накануне» Тургенева говорит об этой девушке как о незаурядной натуре. Ей всего двадцать лет. Она статная и привлекательная. У девушки серые глаза и темно-русая коса. Однако в ее облике есть нечто порывистое и нервическое, что нравится далеко не каждому.
Душа Елены Николаевны стремится к добродетели, но при этом ничто не способно удовлетворить ее. С самого детства девушка интересовалась животными, а также больными, нищими и голодными людьми. Их положение тревожило ее душу. В 10-летнем возрасте Елена познакомилась с нищей девочкой по имени Катя и стала заботиться о ней, сделав своеобразным предметом своего поклонения. Подобного увлечения не одобряли родители. Но Катя умерла, оставив в душе Елены неизгладимый след.

Уже с 16 лет девушка считала себя одинокой. Она жила самостоятельной, не стесненной никем жизнью, считая при этом, что любить ей некого. В роли своего мужа она никак не представляла и Шубина. Ведь этот юноша отличался непостоянством.
Берсеньев же привлек Елену. Она увидела в нем умного, образованного и глубокого человека. Но Андрей постоянно и настойчиво рассказывал ей об Инсарове - молодом человеке, одержимом идеей освобождения родины. Это и пробудило интерес Елены к личности болгарина.
Дмитрий Инсаров
Узнать историю этого героя мы также можем из краткого содержания «Накануне». Тургенев рассказал своему читателю о том, что мать юноши похитил, а затем убил турецкий ага. Дмитрий тогда был еще ребенком. Отец мальчика решил отомстить за свою жену, за что был расстрелян. В восьмилетнем возрасте Инсаров остался сиротой, и его забрала к себе тетя, которая жила в России.
В свои 20 лет он вернулся на родину и за два года объездил страну вдоль и поперек, хорошо изучив ее. Дмитрий не раз подвергался опасности. Во время путешествий его преследовали. Берсенев рассказывал о том, что сам видел рубец на теле друга, оставшийся на месте раны. Однако автор романа указывает на то, что Дмитрий вовсе не желает отомстить аге. Цель, которую преследует юноша, более обширна.

Инсаров, как и все студенты, беден. При этом он горд, щепетилен и нетребователен. Его отличает огромная работоспособность. Герой изучает право, русскую историю и политэкономию. Он занимается переводом болгарских летописей и песен, составляя грамматику родного языка для русских, а русскую - для своего народа.
Любовь Елены к Инсарову
Дмитрий уже во время своего первого визита к Стаховым произвел на девушку сильное впечатление. Мужественные черты характера юноши подтвердил и произошедший вскоре случай. О нем мы можем узнать из краткого содержания «Накануне» Тургенева.
Однажды Анне Васильевне пришла на ум идея показать своей дочери и Зое красоты Царицына. Они отправились туда большой компанией. Пруды, парк, развалины дворца - все это произвело на Елену большое впечатление. Во время прогулки к ним подошел внушительного роста мужчина. Он начал требовать от Зои поцелуй, который бы послужил компенсацией за то, что девушка не ответила на аплодисменты во время своего прекрасного пения. Защитить ее попытался Шубин. Однако делал он это в витиеватой форме, пытаясь увещевать пьяного нахала. Его слова только разозлили мужчину. И здесь вперед выступил Инсаров. Он в требовательной форме предложил пьяному уйти. Мужчина не стал слушать и подался вперед. Тогда Инсаров приподнял его и бросил в пруд.

Далее роман Тургенева рассказывает нам о возникшем у Елены чувстве. Девушка призналась себе, что любит Инсарова. Именно поэтому для нее явилась ударом весть о том, что Дмитрий уезжает от Стаховых. Причину столь внезапного отъезда понимает только Берсенев. Ведь однажды его друг признался, что уехал бы, если бы влюбился. Личное чувство не должно стать препятствием на пути его долга.
Признание в любви

После ее признания Инсаров уточнил, готова ли Елена последовать с ним и сопровождать его повсюду? На это девушка ответила ему утвердительно. И тогда болгарин предложил ей стать его женой.
Первые трудности
Начало совместного пути главных героев Тургенева «Накануне» не было безоблачным. В качестве мужа для своей дочери Николай Артемьевич выбрал обер-секретаря сената Курнатовского. Но и эта преграда была не единственной для счастья влюбленных. Из Болгарии стали приходить тревожные письма. Дмитрий собрался ехать на родину. Однако он внезапно простудился и в течение восьми дней находился при смерти.

Берсенев ухаживал за своим другом и постоянно рассказывал о его состоянии Елене, которая была просто в отчаянии. Но угроза миновала, после чего девушка навестила Дмитрия. Молодые люди решили поторопиться с отъездом. В этот же день они стали мужем и женой.
Отец Елены, узнав о свидании, призвал дочь к ответу. И здесь Елена поведала родителям, что Инсаров стал ее мужем, и что они скоро уедут в Болгарию.
Путешествие молодых
Далее в романе Тургенева читателю говорится о том, что Елена и Дмитрий приехали в Венецию. Позади у них остался не только трудный переезд, но и два месяца болезни, которые Инсаров провел в Вене. После Венеции молодые отправились в Сербию, чтобы затем переехать в Болгарию. Для этого необходимо дождаться Рендича.

Этот старый «морской волк» переправит их на родину Дмитрия. Однако молодого человека внезапно подкашивает чахотка. Елена ухаживает за ним.
Сон
Елена, измучившись от ухода за больным, уснула. Ей приснился сон, в котором она находится в лодке, вначале на пруду в Царицыно, а затем в море. После ее накрывает снежный вихрь, и девушка оказывается в повозке возле Кати. Кони несут их прямо в снежную пропасть. Спутница Елены смеется и зовет ее в бездну. Девушка просыпается, и в этот момент Инсаров говорит, что умирает. Рендич, прибывший отвезти молодых в Болгарию, уже не застает Дмитрия в живых. Елена просит его отвезти гроб с телом возлюбленного и отправляется вместе с ним.
Дальнейшая судьба героини
После смерти мужа Елена отправила письмо родителям о том, что едет в Болгарию. Она написала им, что другой родины, кроме этой страны, для нее уже нет. Что случилось с ней потом, не знает никто. Рассказывали, что кто-то случайно встретил девушку в Герцеговине. Елена устроилась сестрой милосердия и работала при болгарском войске. После этого ее никто не видел.
Анализ произведения
Тема произведения Тургенева «Накануне» затрагивает художественное осмысление вопроса деятельного начала в человеке. И основной мыслью романа является необходимость активных натур для прогресса и движения общества.
Образ Елены Стаховой в романе Тургенева «Накануне» - это то, чего давно ожидали читатели. Ведь он показывает нам волевую женщину, которая выбрала для себя деятельного и решительного мужчину. Это же отмечали и критики романа Тургенева «Накануне». Отзывы литературоведов подтверждали то, что вполне русский, живой и законченный образ Елены стал настоящей жемчужиной произведения. Такого сильного женского характера до Тургенева не показывало ни одно отечественное произведение. Основной чертой девушки является ее самопожертвование. Идеал Елены - деятельное добро, которое связано с пониманием счастья.
Что касается Инсарова, то он, конечно же, возвышается над всеми персонажами романа. Исключение составляет только Елена, которая находится с ним на одной ступеньке. Главный герой Тургенева живет мыслью о подвиге. И самая привлекательная черта этого образа - любовь к родине. Душа юноши наполнена состраданием к своему народу, который находится в турецкой кабале.
Все произведение русского писателя проникнуто мыслью о величии и святости идеи освобождения отчизны. Инсаров же при этом является настоящим идеалом самоотречения.
По мнению критиков, в этом романе наиболее ярко нашла отражение гениальность Тургенева. Писатель сумел рассмотреть актуальные проблемы своего времени и отразить их таким образом, что произведение остается актуальным и для современного читателя. Ведь целеустремленные, смелые и сильные личности нужны России всегда.
В романе «Накануне» (1860) смутные светлые предчувствия и надежды, которые пронизывали меланхоличное повествование «Дворянского гнезда», превращаются в определенные решения. Основной для Тургенева вопрос о соотношении мысли и деятельности, человека дела и теоретика в этом романе решается в пользу практически осуществляющего идею героя.
Само название романа «Накануне» — название «временно́е», в отличие от «локального» названия «Дворянское гнездо», — отражает то обстоятельство, что замкнутости, неподвижности патриархальной русской жизни приходит конец.
Русский дворянский дом с вековым укладом его быта, с приживалками, соседями, карточными проигрышами оказывается на распутье мировых дорог. Русская девушка находит применение своим силам и самоотверженным стремлениям, участвуя в борьбе за независимость болгарского народа.
Сразу после выхода в свет романа читатели и критики обратили внимание на то, что личностью, которую русское молодое поколение готово признать за образец, здесь представлен болгарин.
Название романа «Накануне» не только отражает прямое, сюжетное его содержание (Инсаров гибнет накануне войны за независимость его родины, в которой он страстно хочет принять участие), но и содержит оценку состояния русского общества накануне реформы и мысль о значении народно-освободительной борьбы в одной стране (Болгарии) как кануна общеевропейских политических перемен (в романе косвенно затрагивается и вопрос о значении сопротивления итальянского народа австрийскому владычеству).
Добролюбов считал образ Елены средоточием романа — воплощением молодой России. В этой героине, по мнению критика, воплощена «неотразимая потребность новой жизни, новых людей, которая охватывает теперь все русское общество, и даже не одно только так называемое „образованное“ <...> „Желание деятельного добра“ есть в нас, и силы есть; но боязнь, неуверенность в своих силах и, наконец, незнание: что делать? — постоянно нас останавливают <...> и мы всё ищем, жаждем, ждем... ждем, чтобы нам хоть кто-нибудь объяснил, что делать».
Таким образом, Елена, представлявшая, по его мнению, молодое поколение страны, ее свежие силы, характеризуется стихийностью протеста, она ищет «учителя» — черта, присущая деятельным героиням Тургенева.
Идея романа и структурное ее выражение, столь сложные и многозначные в «Дворянском гнезде», в «Накануне» предельно ясны, однозначны. Героиня, ищущая учителя-наставника, достойного любви, в «Накануне» выбирает из четырех претендентов на ее руку, из четырех идеальных вариантов, ибо каждый из героев — высшее выражение своего этико-идейного типа.
Шубин и Берсенев представляют художественно-мыслительный тип (тип людей отвлеченно-теоретического или образно-художественного творчества), Инсаров и Курнатовский относятся к «деятельному» типу, т. е. к людям, призвание которых состоит в практическом «жизнетворчестве».
Говоря о значении в романе выбора своего пути и своего «героя», который делает Елена, Добролюбов рассматривает этот поиск-выбор как некий процесс, эволюцию, аналогичную развитию русского общества за последнее десятилетие. Шубин, а затем и Берсенев соответствуют по своим принципам и характерам более архаичным, отдаленным стадиям этого процесса.
Вместе с тем оба они не настолько архаичны, чтобы быть «несовместимыми» с Курнатовским (деятелем эпохи реформ) и Инсаровым (особое значение которому придает складывающаяся революционная ситуация), Берсенев и Шубин — люди 50-х гг. Ни один из них не является чистым представителем гамлетического типа. Таким образом, Тургенев в «Накануне» как бы распростился со своим излюбленным типом.
И Берсенев, и Шубин генетически связаны с «лишними людьми», но в них нет многих главных черт героев этого рода. Оба они прежде всего не погружены в чистую мысль, анализ действительности не является их основным занятием. От рефлексии, самоанализа и бесконечного ухода в теорию их «спасает» профессионализация, призвание, живой интерес к определенной сфере деятельности и постоянный труд.
«Одарив» своего героя-художника Шубина фамилией великого русского скульптора, Тургенев придал его портрету привлекательные черты, напоминающие внешность Карла Брюллова, — он сильный, ловкий блондин.
Из первого же разговора героев — друзей и антиподов (наружность Берсенева рисуется как прямая противоположность внешности Шубина: он худой, черный, неловкий), разговора, который является как бы прологом романа, выясняется, что один из них «умница, философ, третий кандидат московского университета», начинающий ученый, другой — художник, «артист», скульптор.
Но характерные черты «артиста» — черты человека 50-х гг. и идеала людей 50-х гг. — сильно рознятся от романтического представления о художнике. Тургенев нарочито дает это понять: в самом начале романа Берсенев указывает Шубину, каковы должны быть его — «артиста» — вкусы и склонности, и Шубин, шутливо «отбиваясь» от этой обязательной и неприемлемой для него позиции художника-романтика, защищает свою любовь к чувственной жизни и ее реальной красоте.
В самом подходе Шубина к своей профессии проявляется его связь с эпохой. Сознавая ограниченность возможностей скульптуры как художественного рода, он стремится передать в скульптурном портрете не только и не столько внешние формы, сколькодуховную суть, психологию оригинала, не «линии лица», а взгляд глаз.
Вместе с тем ему присуща особенная, заостренная способность оценивать людей и умение возводить их в типы. Меткость характеристик, которые он дает другим героям романа, превращает его выражения в крылатые слова. Эти характеристики в большинстве случаев и являются ключом к типам, изображенным в романе.
Если в уста Шубина автор романа вложил все социально-исторические приговоры, вплоть до приговора о правомерности «выбора Елены», Берсеневу он передал ряд этических деклараций. Берсенев — носитель высокого этического принципа самоотвержения и служения идее («идее науки»), как Шубин — воплощение идеального «высокого» эгоизма, эгоизма здоровой и цельной натуры.
Берсеневу придана нравственная черта, которой Тургенев отводил особенно высокое место на шкале душевных достоинств: доброта. Приписывая эту черту Дон-Кихоту, Тургенев на ней основывался в своем утверждении исключительного этического значения образа Дон-Кихота для человечества. «Все пройдет, все исчезнет, высочайший сан, власть, всеобъемлющий гений, всё рассыплется прахом <...> Но добрые дела не разлетятся дымом: они долговечнее самой сияющей красоты».
У Берсенева эта доброта происходит от глубоко, органически усвоенной им гуманистической культуры и присущей ему «справедливости», объективности историка, способного встать выше личных, эгоистических интересов и пристрастий и оценить значение явлений действительности безотносительно к своей личности.
Отсюда и проистекает истолкованная Добролюбовым как признак нравственной слабости «скромность», понимание им второстепенного значения своих интересов в духовной жизни современного общества и своего «второго номера» в строго определенной иерархии типов современных деятелей.
Тип ученого как идеал оказывается исторически дезавуированным. Это «низведение» закреплено и сюжетной ситуацией (отношение Елены к Берсеневу), и прямыми оценками, данными герою в тексте романа, и самооценкой, вложенной в его уста. Такое отношение к профессиональной деятельности ученого могло родиться лишь в момент, когда жажда непосредственного жизнестроительства, исторического общественного творчества охватила лучших людей молодого поколения.
Этот практицизм, это деятельное отношение к жизни не у всех молодых людей 60-х гг. носили характер революционного или даже просто бескорыстного служения. В «Накануне» Берсенев выступает как антипод не столько Инсарова (мы уже отмечали, что он более чем кто-либо другой способен оценить значение личности Инсарова), сколько обер-секретаря Сената — карьериста Курнатовского.
В характеристике Курнатовского, «приписанной» автором Елене, раскрывается мысль о принадлежности Курнатовского,как и Инсарова, к «действенному типу» и о взаимовраждебных позициях, занимаемых ими внутри этого — очень широкого — психологического типа.
Вместе с тем в этой характеристике сказывается и то, как исторические задачи, необходимость решения которых ясна всему обществу (по словам Ленина, во время революционной ситуации обнаруживается невозможность «для господствующих классов сохранить в неизменном виде свое господство» и вместе с тем наблюдается «значительное повышение <...> активности масс», не желающих жить по-старому), заставляют людей самой разной политической ориентации надевать маску прогрессивного человека и культивировать в себе черты, которые приписываются обществом таким людям.
«Вера» Курнатовского — это вера в государство в приложении к реальной русской жизни эпохи, вера в сословно-бюрократическое, монархическое государство. Понимая, что реформы неизбежны, деятели типа Курнатовского связывали все возможные в жизни страны изменения с функционированием сильного государства, а себя считали носителями идеи государства и исполнителями его исторической миссии, отсюда — самоуверенность, вера в себя, по словам Елены.
В центре романа — болгарский патриот-демократ и революционер по духу — Инсаров. Он стремится опрокинуть деспотическое правление в родной стране, рабство, утвержденное веками, и систему попрания национального чувства, охраняемую кровавым, террористическим режимом.
Душевный подъем, который он испытывает и сообщает Елене, связан с верой в дело, которому он служит, с чувством своего единства со всем страдающим народом Болгарии. Любовь в романе «Накануне» именно такова, какой ее рисует Тургенев в выше цитированных словах о любви как революции («Вешние воды»). Воодушевленные герои радостно летят на свет борьбы, готовые к жертве, гибели и победе.
В «Накануне» впервые любовь предстала как единство в убеждениях и участие в общем деле. Здесь была опоэтизирована ситуация, характерная для большого периода последующей жизни русского общества и имевшая огромное значение как выражение нового этического идеала.
Прежде чем соединить свою жизнь с ее жизнью, Инсаров подвергает Елену своеобразному «экзамену», предвосхищающему символический «допрос», которому подвергает таинственный голос судьбы смелую девушку-революционерку в стихотворении в прозе Тургенева «Порог».
При этом герой «Накануне» вводит любимую девушку в свои планы, свои интересы и заключает с ней своеобразный договор, предполагающий с ее стороны сознательную оценку их возможной будущности, — черта отношений, характерная для демократов-шестидесятников.
Любовь Елены и ее благородная решимость разрушают аскетическую замкнутость Инсарова, делают его счастливым. Добролюбов особенно ценил страницы романа, где изображалась светлая и счастливая любовь молодых людей.
В уста Шубина Тургенев вложил лирическую апологию идеала героической молодости: «Да, молодое, славное, смелое дело. Смерть, жизнь, борьба, падение, торжество, любовь, свобода, родина... Хорошо, хорошо. Дай бог всякому! Это не то, что сидеть по горло в болоте да стараться показывать вид, что тебе всё равно, когда тебе действительно в сущности всё равно. А там — натянуты струны, звени на весь мир или порвись!».
История русской литературы: в 4 томах / Под редакцией Н.И. Пруцкова и других - Л., 1980-1983 гг.
- Что изучает социальная психология
- Океан – наше будущее Роль Мирового океана в жизни Земли
- Ковер из Байё — какие фильмы смотрели в Средние века
- Библиотека: читающий малыш
- Всадник без головы: главные герои, краткая характеристика
- 3 стили речи. Стили текста. Жанры текста в русском языке. §2. Языковые признаки научного стиля речи
- Самые разрушительные цунами в истории
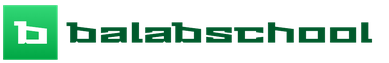
 Live Journal
Live Journal Facebook
Facebook Twitter
Twitter